Полит.ру перезапускает лекции в онлайн-формате. После режиссера Ильи Хржановского к нам пришел Александр Аузан — доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ.
В первой части — теория социального договора. Пятнадцать лет назад Александр Аузан читал у нас лекции, которые можно считать зародышем или, вернее, старой версией сегодняшней лекции. Одна из первых называлась «Общественный договор и гражданское общество». Тогда гражданское общество и общественный договор мы обсуждали не только как институциональную экономику, но и как ситуацию, возникшую после ареста Михаила Ходорковского (дело «Юкоса») и выстраивания вертикального контракта.
Следующая часть — о том, как устроен договор в России, выйдет 23 апреля 2020 года. В конце вы найдете список литературы по рекомендации Аузана, чтобы в свободное время ознакомиться с теорией социального договора полнее.
Я вдруг понял, что за последние двадцать пять лет моей жизни есть три главные идеи, которые занимают меня непрерывно или весьма часто, и в которые я за эти четверть века вложил много сил. Это идея эффекта колеи (path-dependence problem в институциональной теории. Но 15 лет назад я предложил термин «эффект колеи», и он прижился). Это идея, как культурные особенности воздействуют на экономику (культура имеет значение, как сказал Самюэл Хантингтон. В данном случае я говорю про вполне измеримые социокультурные характеристики российского населения, которые, например, не позволяют нам добиться успеха в автопроме, в то время как в немассовых видах производств мы способны на серьезные прорывы в мировых рынках). И идея общественного договора — социального контракта, социального договора.
Термин «общественный договор» в сознании тесно увязан с работами старых больших философов — Руссо, Лока, Гоббса, — что, в общем, правильно, но для современной теории — не вполне. Социальный контракт — это термин, который за эти годы захватило государство: социальным контрактом называется вполне толковый инструмент, когда помогают гражданину на условиях, когда он что-нибудь делает — например, учится или открывает микробизнес. Я попробую употреблять термин «социальный договор», не имея в виду , что он тождественен общественному договору.
В чем трудность этой темы? Почему я ее выбрал? Потому что здесь действительно есть некоторые трудности, которые нужно было пройти за эти десятилетия. Например, казалось, что это некая конструкция: хорошо бы всем людям взяться за руки, как у Толстого, и делать что-то хорошее всем хорошим. Такая метафора романтическая. Но это не так. Почему?
Первая моя работа о социальном договоре была опубликована в 1989 году в журнале «Наука и жизнь». Статья называлась «Иллюзии и коллизии сталинской эпохи». Сравнительный анализ того, как устроен социальный договор совсем не в «обществе хороших людей»: я сопоставлял тоталитарные режимы СССР и нацистской Германии, показывал, в чем разница, как происходит обмен ожиданиями, составляющий жизнеспособность и прочность такого рода тоталитарных режимов.
Я тогда пользовался выражением «гнойная хирургия»: мы анализируем виды обществ, которые имеют довольно тяжелые исторические последствия и прямые жертвы. В сталинском режиме это был фактически обмен личной свободы и прав на свою рабочую силу, на возможность взлета карьеры — из крестьянских низов через рабоче-крестьянскую Красную армию. Механизм репрессий всё время освобождал этажи для того, чтобы люди поднимались. А в нацизме это было устроено не так: там не было такого механизма, который давал возможность, сбрасывая элиты, всё время подниматься. Уничтожались коммунисты и евреи, а вот прочие элиты имели довольно прочное положение. Обещания ренты и больших результатов для верхов и низов обменивались на их личные права, разрушение рынка труда, создание собственности государства на рабочую силу. Начало моих исследований было не романтическое. Мы говорим о том, на чем существует устойчивость тех или иных социальных образований.
Второе методологическое затруднение, которое все эти годы существовало, но, кажется, разрешилось: а где он, как его пощупать, этот общественный договор? Вопрос о количественной измеримости и верификации социального договора был решен фактически только в 2014 году. Что совершенно не случайно: нужно было пережить несколько переломов и смен социального договора в России, чтобы увидеть, чем одно отличается от другого и как это выразить, например, в динамике количественных показателей.
Именно решение такого рода проблем приводило к тому, что сейчас тема социального договора гораздо больше признана, чем 25–30 лет тому назад. Мы прошли за эти 25–30 лет путь, нормальный для любого нового начинания, которое, как известно, живет в трех фазах: «Что за чушь!», «Что-то в этом есть» и «Кто же этого не знает?». Мы еще не вошли в фазу «Кто же этого не знает?», но уже без иронии и язвительности, без ссылок на тех или иных авторов аналитики начинают употреблять этот инструмент.
Благодаря тому, что мы пережили два перелома — 2003–2004 и 2014 годов, — мы довольно многое поняли. Это понимание связано не только с нашим, российским историческим опытом, но и, конечно, с «большой» повесткой. Мы имеем вполне работоспособную операциональную теорию, которая возникла благодаря тому, что эстафетную палочку от философов, которые два века занимались и, надеюсь, продолжают заниматься этой теорией, приняли экономисты. Это произошло довольно давно, благодаря Бьюкенену и Таллоку. Джеймс Бьюкенен — это нобелевский лауреат, а Гордон Таллок — нет (кстати, для меня загадка, почему две главные книги у них одинаковые, а Нобелевскую премию получил только Бьюкенен), но в их прекрасной книге «Между Левиафаном и анархией: расчет согласия» они заложили экономические подходы к тому, как смотреть на социальный договор. И в этом смысле я стою на их плечах, и теперь попробую изложить то, чего, безусловно, вы не найдете в книге Бьюкенена и Таллока. Поэтому, как это говорится, слова мои, музыка веков.
Социальный договор — это обмен ожиданиями (не обязательствами — взаимными ожиданиями) по поводу прав собственности и свободы, который получает устойчивость в точке пересечения спроса и предложения государства, причем таких точек на самом деле некоторое множество.
Когда возникает тот или иной контракт, договор? Экономисты считают: когда спрос и предложение сошлись и оказалось, что вам нужно ровно то же самое, за что вы действительно готовы заплатить. Это точка пересечения двух кривых. Социальный договор — тоже одна из возможных точек пересечения спроса и предложения государства.
Итак, начнем с кривой спроса на государство. Для того чтобы понять какое-то явление, нужно рассматривать его в точке «ноль», где его еще нет. Таким нулевым спросом на государство является так называемое безгосударственное общество — анархия. К моему глубочайшему сожалению, в России анархия по-прежнему имеет отрицательную коннотацию. Во французских и американских университетах изучение теории анархии идет весьма серьезно, и если там спросить, кто крупнейшие теоретики анархии, скажут: «Русские и французы». Потому что Михаил Бакунин, безусловно, сделал колоссальный вклад в эту разработку и предсказал XX век, и точнее, чем Карл Маркс, с которым он полемизировал.
Можем ли мы изучать анархию не как теорию, а как реальность? Да, в мире очень много случаев анархии. От современной криптоанархии до, скажем, китобойного промысла, когда не действовало право государства, а китобои решали вопросы — и права собственности, и свободы.
Но есть один очень крупный, массовый и потому очень хорошо исследованный случай. Я имею в виду анархию в штате Калифорния с 1846 по 1864 год. Восемнадцать лет большой штат США жил без государства. Это естественный эксперимент: его присоединение в ходе войны Североамериканских Соединенных Штатов с Мексиканским союзом совпало с открытием золота в рай оне. Все армии, которые посылались туда федеральным правительством американцев, разбегались мыть золото. В конце концов, их туда перестали посылать. Восемнадцать лет люди жили — мы знаем какие были права собственности, какие были режимы… Оказалось, что это вполне возможно. В итоге эта анархия прекратилась сама собой: через восемнадцать лет калифорнийцы попросили прислать губернатора и подключиться. Причем не от бедности, а от процветания: нужны были более широкие торговые пути, и они готовы были принять государственный порядок.
В теоретическом смысле, или, если хотите, в математическом, как это выглядит? Есть так называемая модель Хиршлейфера : анархия — нулевой спрос на государство — устойчива, пока действуют три условия. Во-первых, неизменный состав участников игры (это в теории игр обычно формулируется), то есть более-менее постоянный состав людей. Во-вторых, уровень агрессивности ниже единицы — люди готовы скорее защищать свое, чем захватывать чужое. И в-третьих, отсутствие групп, которые находятся на грани выживания : у всех что-то всё-таки есть. Пока три условия соблюдаются, анархия может жить десятилетиями, возможно, и столетиями. Но если нарушено хотя бы одно условие, то дальше идет выход на спрос на государство. При этом обратно — в анархическое состояние — вернуться нельзя, это дорога в один конец.
Что же происходит дальше? Нарастание спроса на применение насилия для гарантии прав собственности и свободы в том или ином варианте.
Откуда возникает прямая предложения? Давайте опять возьмем точку «ноль». Это ситуация, когда предложение государства как насилия существует в своем абсолютном варианте (в социальных науках практически существует консенсус вокруг утверждения Макса Вебера, что государство — это организация со сравнительным преимуществом в осуществлении насилия, лучший в мире насильник).
Исторически это было исследовано на базе естественного эксперимента, но брали не Америку середины XIX века, а Китай 1920–30-х годов. Мансур Олсон и его соавтор-математик Мартин МакГир исследовали, как существовали милитаристы в Китае, когда 20 лет государственности в Китае практически не было. И выяснили, что из банды, если она попадает в ситуацию, когда не может покинуть определенную территорию, начинает неизбежно прорастать государственность. Это так называемая модель «стационарного бандита» МакГира — Олсона: если вы просто пришли пограбить, вы забираете всё, превращаете это в свое продовольствие и оружие и уходите. Но если вам нужно, чтобы люди снова производили продовольствие, то вам приходится давать им условия для деятельности. В итоге тот же насильник превращается в некоторую модель предложения насилия для поддержания определенного порядка.
По МакГиру, эволюция идет дальше: она даст абсолютно авторитарные формы и может дойти даже до консенсусной демократии. Но есть очень важная развилка, точка бифуркации (заметим, что это написано до того, как мы это реально пережили в 90-е годы): если группы, окружающие правителя, делят ресурсы, опираясь на инструменты насилия, то рано или поздно они приходят к ситуации, когда все ресурсы, до которых можно дотянуться, практически поделены, либо слишком дорого до них дотягиваться. И тогда у них выбор: вести тяжелую войну друг с другом (но это уже не безоружное население грабить, это чрезвычайно тяжелая борьба с неизвестным исходом), либо надо менять правила, от правил захвата переходить к правилам эксплуатации ресурсов. Если происходит такой переход, то открывается развитие и движение от авторитарности к демократии, и дальше — к консенсусной демократии.
Теперь о точках пересечения. Почему их несколько? В экономической теории есть случаи с множественными равновесиями, потому что формы кривых довольно разнообразны. Иногда они пересекаются два раза, три раза… Тут ничего парадоксального нет. Но надо понять, где возникают эти точки и по какой причине они возникают.
Главным теоретическим постулатом является так называемая невозможная трилемма Джона Кейнса : в 1932 году он (наблюдая тогда как раз расходящееся разнообразие мира в условиях Великой депрессии) после посещения Советского Союза написал статью об этой самой трилемме. Смысл ее прост: вы не можете одновременно максимизировать свободу, эффективность и справедливость . Три шарика в руке невозможно удержать. В лучшем случае — два, но всё равно что-то у вас главное, а что-то — второстепенное. Вследствие чего у вас всегда возникает многообразие. Оно основано на ценностном выборе. Что вы выбираете прежде всего: свободу, эффективность или справедливость? В какой степени вы готовы ограничить это главное достоинство тем, что вы что-то еще допускаете (например, немножко справедливости при приоритете свободы – скажем, для вас важнее эффективность в сочетании со свободой?). Возникают множественные точки на кривой, где спрос и предложение могут совпасть.
Мы уже несколько веков наблюдаем устойчивость таких вещей, как авторитаризм и демократия, — относительную, конечно. Заметьте, ведь это было открыто в теории социальных договоров Локком и Гоббсом как две формы контракта — вертикальный и горизонтальный. И эти контракты живут и сейчас как демократия и автократия, иногда перетекают друг в друга, колышутся: в 1990-е годы становилось больше демократических стран, а в нулевые и десятые — больше авторитарных. Можем сравнить, насколько они управляются с экономикой, с социальной сферой, продолжительностью жизни. Фактически сравнительная эффективность и там, и там иногда наблюдается. Известно только, что авторитарным режимам свойственны более пиковые значения. Небольшое количество авторитарных режимов успешно, а вот демократии гораздо чаще бывают успешными. Продолжительность жизни безусловно выше в демократиях — может быть, потому что демократические режимы всё-таки стараются не питаться своими гражданами. Но устойчивость существует, и эта устойчивость не в двух основных видах, а в гораздо большем количестве точек.
Права собственности и свободы — это фактически то, что бизнес и общество обсуждают между собой и с властью, чтобы определить: а вот сколько все-таки прав собственности может сосредоточить один человек? А какие они бывают? А свободы — они по всему спектру, или всё-таки мы согласимся на ограничения, для того чтобы было больше безопасности? Вследствие этого разговор об отношении общества, бизнеса и власти имеет графическую форму треугольника.
Берем сферу горизонтального контракта — демократии: Европу, Англию и Северную Америку. В Англии и в США этот треугольник выглядит как «бизнес» — верхнее положение, а «общество» и «власть» имеют подчиненное положение. Вследствие этого экономический результат является главным. А вот в Германии и Франции получится уже по-другому: «бизнес» и «власть» уравновешены, а «общество» не имеет такой силы. В Скандинавии получится, что, наоборот, «общество» и «государство» чрезвычайно влиятельны, а «бизнес» маневрирует между этими полюсами. В Австралии и Новой Зеландии, как и в Канаде, окажется, что «общество» стоит во главе этого треугольника.
С моей точки зрения, США вышли из одного социального договора и пока не могут войти в другой. Уже несколько избирательных циклов сталкиваются две модели, и входа не произошло — и это довольно трагическая ситуация.
Наш случай — это случай автократии, когда «государство» стоит в вершине треугольника, а «общество» и «бизнес» — подчиненные стороны.
Видео:Два сердца России. Почему 75 вытолкнуты на обочину? Сергей Иванов и Александр Аузан на ПМЭФ 2023Скачать

Главное — не доиграться до реальной мировой войны
Евгений Гонтмахер: Перед тем как войти в зал и начать дискуссию, Александр Александрович хотел внести коррективу в название нашей сегодняшней дискуссии «Цивилизация Россия: на Запад через Восток?» Поэтому я с этого вопроса и начну наше интервью: что не так с этим названием?
Александр Аузан: Дело в том, что я не очень разделяю понятие цивилизация в его применении к России. Для меня как экономиста утверждения, которые мы делаем, прежде всего должны быть проверяемыми, основанными на количественных данных. Я и мои коллеги проводили много исследований социокультурных характеристик населения, но их главная цель — показать не разницу между цивилизациями, а различия между разными ценностно-поведенческими платформами. Для этого экономисты и социологи задают людям в разных странах какие-то простые вопросы. Среди них, например, вопрос об отношении к самоубийству. Западные европейцы чаще допускают, что это может быть оправданно, а люди из евразийского пространства с этим не согласны. Но есть и более жесткие вопросы. В конце 2013 года я спросил у украинской аудитории: убеждены ли они, что интегрированы в Европу в культурном смысле? Они ответили утвердительно. Тогда я попросил их сказать, как они относятся к гомосексуальным бракам? В зале воцарилось ледяное молчание. И дело не в том, что есть правильные и неправильные ответы, а в том, что между группами стран существуют границы. В этом смысле Россия отнюдь не отдельная цивилизация — она очень близка к постсоветским странам, за исключением Узбекистана.
В целом сегодня существует две группы более или менее удаленных друг от друга стран, которые когда-то имели общие истоки в греко-христианской цивилизации. Эта удаленность в исторической перспективе объясняется расколом Рима на Западную и Восточную часть. Сегодняшний англо-саксонский мир вышел из Западного Рима и прецедентного права, а Россия, страны Восточной и Южной Европы — из Византийской империи. И Евросоюз, кстати, в своем интеграционном проекте споткнулся как раз не о конкуренцию стран между собой (например, не о конкуренцию Франции и Германии, которые воевали на протяжении столетий), а именно о культурные границы этих цивилизаций — при интеграции Греции, Болгарии, Польши. Если бы ЕС включил в свой состав еще и Турцию — интеграционный проект попросту бы разорвало.

В договоре об образовании Евросоюза есть вторая статья, которая гласит: «Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, отсутствием дискриминации, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин». Но ведь эти ценности скорее универсальные, чем исключительно европейские?
Разговор об универсальности ценностей — очень непростой. Если вы сравните преамбулы конституций ведущих европейских государств, вы обнаружите различия. А «свобода собственности» и «право на счастье», заявленные в американской конституции, — это не то же самое, что французские «свобода, равенство и братство». Право на счастье у американцев — это, вообще говоря, право на то, чтобы приехать за удачей и найти ее. Словом, то, что написано в основополагающих документах государств Североатлантического договора, различается от страны к стране. К тому же документы декларативны, а я верю в ценности, которые можно проверить социометрическими методами.
Знаете, когда в 1932 году Джон Мейнард Кейнс посетил СССР, то, вернувшись, он написал статью о невозможной трилемме. Он сказал, что нельзя одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. В лучшем случае вы удержите два шарика в руке, но не три. И я бы сказал, что свобода, эффективность и справедливость — это атомы, из которых строятся довольно разные социально-политические системы. Вся Европа понимает как цену свободы, так и цену справедливости, но Северная Европа положит в основу конструкции справедливость, а, например, Англия — свободу.

А российская ценностная база может ли теоретически взять за основу что-то из этих трех шариков?
Времена и ценности меняются. И в России, мне кажется, есть определенная динамика. 90-е годы прошли под знаком свободы, но сейчас превалируют скорее консервативные ценности, связанные с эффективностью, с тем, чтобы нация утвердилась — любыми способами. А справедливость — больная тема для России. У нас страна с высоким коэффициентом Джини, с плохо работающими лифтами, и я все время жду, когда справедливость в очередной раз всплывет в качестве одной из приоритетных ценностей. Боюсь, что если это случится недостаточно плавно, нас ждет очередной взрыв. Все по Жванецкому, который дал нашей стране очень жесткую характеристику: «История России — это история борьбы невежества с несправедливостью».
На мой взгляд, сейчас есть спрос на так называемый левый поворот — не только в России, но и в Европе. Польша, например, снижает пенсионный возраст, в то время как мы повышаем. Так что курс на справедливость может аукнуться самым неожиданным образом, и это проблема всей европейской цивилизации.
С моей точки зрения, безусловно, мы часть Большой Европы, но Большая Европа — явление как минимум двухъядерное. В Западной и Восточной Европе по-разному работают право и суд, по-разному соотносятся религия и государство. Проблема сегодняшнего ЕС в том, что он пытается интегрировать всю Европу на основе «западно-римских» базисов, например, примата права. При этом в «восточно-римской» части, которая была гораздо более разнородной и, кстати, просуществовала почти на тысячу лет дольше, смогли адаптировать применение единого закона к разным сообществам.
При этом я считаю, что европейские страны ждет либо общее будущее, либо общее поражение. Посмотрите, как выглядит прогноз на 2035 год, сделанный ИМЭМО имени Примакова. Это биполярный мир США и КНР. Так что сближение «восточно-римской» и «западно-римской» частей нынешнего Евросоюза было бы, на мой взгляд, очень важным и полезным решением. В ближайшие лет пять этого не случится. Но в ближайшие 20 лет сближение вполне может произойти, и весьма серьезное.

А Япония, Южная Корея, Тайвань, которые с очевидностью не относятся к наследникам Византии, входят в Большую Европу?
Ни в коем случае. Говоря о ценностях, интереснее всего говорить о поведенческих установках. Есть портреты пяти больших наций — немцев, американцев, японцев, китайцев и нас, — выполненные по методике Герта Хофстеде на основе мировых исследований ценностей. И американцы резко отличаются от других больших наций: они считают, что живут в той стране, в которой хотели бы жить, и не хотели бы ничего серьезно менять. Японцы, похоже, тоже скоро станут такими. Один из ведущих японских экономистов прекрасно ответил на вопрос, почему в его стране уже 20 лет такие низкие темпы роста: «Понимаете, рост — это попытка преодолеть разницу между образом будущего, в которое вы хотите попасть, и точкой, в которой вы находитесь. А мы находимся в том состоянии, в котором хотим».
Я немного о другом. Возьмем, например, японскую демократию, американскую и немецкую. С точки зрения стандартных критериев все три попадают в группу настоящей демократии, хотя у каждой есть свои особенности.
Конечно, японская демократия устроена совершенно не так, как американская. Является ли она демократией? Наверное. Понятно, что в Японии есть особые механизмы, за которые в США немедленно подали бы в суд. Но демократия ли это по верифицированным признакам — возможность смены власти, непредсказуемость выборов? Пожалуй, да.
У нас в России блестящие институты, они умеют выжимать ренту из чего угодно. Крепостное право есть ни что иное, как институты, выжимающие ренту из человека
Бывают принципиально разные институты: инклюзивные и экстрактивные, последние — это те, что сделаны для «выжимания» ренты. В мире преобладают именно они. У нас в России блестящие институты, они умеют выжимать ренту из камня, из воздуха, из чего угодно. Из человека тоже, конечно, — крепостное право есть ни что иное, как институты, выжимающие ренту из человека. Но бывают другие институты — инклюзивные — они пытаются сработать как магнит, привлечь качественный человеческий капитал и обеспечить доход от инноваций. Таких институтов в мире довольно мало — я бы сказал, в двух десятках стран. А остальные две сотни живут экстрактивными институтами.
Более того, институты имеют «надводную» и «подводную» часть. Есть формальные институты, прописанные законы, а есть ценности и поведенческие установки. Законы из американской или немецкой практики, внедренные в России в 90-е годы, у нас либо не работали, либо работали с точностью до наоборот. Из-за этой разницы между формальными и неформальными составляющими институтами, например, демократия может дать отрицательный эффект, если у вас нет судебной системы и качественной бюрократии. Мы видели, какой страшный круг проделал Египет за последние годы. Был маршал во главе страны, «Братья-мусульмане» в тюрьмах, сильная туристическая индустрия. Произошла революция — и что мы видим? Маршал во главе страны, «Братья-мусульмане» в тюрьмах и разрушенная туристическая индустрия. Вот это последствия демократизации, которая была проведена при отсутствии качественной бюрократии и работающей судебной системы.
Так что если мы говорим про институты, будь то демократия, биржа, венчурные рынки и так далее, мы должны понимать, во-первых, каким методом они обеспечивают экономический результат: выжимая ренту или притягивая человеческий капитал. А во-вторых, как они сочетаются с подводной частью — то есть неформальными практиками и ценностями.

Возвращаясь к России: насколько сильно различаются ценностно-поведенческие установки в разных регионах?
Мы в своем исследовании рассматривали всего 13 российских регионов. Но в этой группе были русские и нерусские по населению, христианские и мусульманские, центральные и окраинные, с историей крепостного права и без нее. И оказалось, что уровень колебания признаков очень небольшой: от 2,65 до 10 процентных пунктов. То есть различия между регионами оказались малосущественными.
Из этого следует очень важный вывод: в России, несмотря на ее культурную, религиозную, социальную разнородность, безусловно, сложилась нация. Разница между ответами респондентов в Москве и Адыгее не так значительна, как, например, разница в ответах между жителями России и Великобритании на те же вопросы. При этом нам с коллегами удалось найти ответ на вечный вопрос: «Русский человек — он кто: социалист или либерал, коллективист или индивидуалист?» Ответ простой — мы на медиане. Я бы сказал, чуть-чуть смещены в сторону коллективизма. В этом смысле оказался прав Редьярд Киплинг, который сказал: «Русские думают, что они самая восточная из западных наций, а между тем они самая западная из восточных».
Однако спор славянофилов и западников о сути русского человека — это уже довольно старая история. Сейчас есть те, кого я называю «особистами», — сторонники особого пути России. Как я вижу, это исследование их точку зрения опровергает.
Я тоже не разделяю мнение об особом пути. Если мы посмотрим на немцев, американцев, японцев, китайцев и нас, мы увидим и сходства, и различия. Все большие нации разные — значит ли это, что у них разные пути? В известном смысле да: если в одной стране холодно, а в другой жарко, вы будете в них по-разному строить дома. И институты тоже будут по-разному выглядеть в Германии, Японии, Китае, России и США — в зависимости от культурной почвы. Но при этом, если вы хотите эффективности, они в конечном счете будут сходиться в некие группы. Сейчас наибольшей эффективностью обладают государства с инклюзивными институтами — это примерно 25 ведущих стран, в основном западных, плюс несколько азиатских. Причем должен сказать, что Китай пока не относится к странам, которые показали высокий результат.

В Казахстане недавно ввели английское правосудие, но при этом критериям демократии, о которых мы сегодня говорили, эта страна не соответствует. И вот туда приезжают английские судьи. Что после этого происходит?
Речь идет об важном эксперименте, о котором у нас чрезвычайно мало пишут. Фактически это попытка создать новый Гонконг или Сингапур. Что сделали казахи? Они вывели часть территории Астаны из-под действия казахстанского законодательства и передали под самостоятельное регулирование. И там оказалось возможным ввести принципы общего, а не континентального права, что в англосаксонских системах составляет очень значительный элемент эффективности. Причем они были не первыми, кто использовал английское право, не имея к нему исторического отношения, — Дубай поступил так же. С 1 июля этого года в Казахстане этот механизм начал работать.
Здесь заключается довольно интересный национальный эксперимент, потому что казахи — они-то точно продукт Орды и Чингисхана, хотя и испытали через нас сильное византийское влияние. Но у номадических наций есть свои преимущества. При огромных пространствах, по которым шли кочевья, никто не посылал в столицу спросить Великого хана, куда гнать отару. В этом смысле там всегда была довольно высокая автономность, и сейчас она поддерживается. Между прочим, там довольно большая роль женщин — у кочевых народов женщины вообще во многом равны мужчинам. Так что Казахстан — республика экспериментов, и этот эксперимент с английским правом подтверждает такой вывод, основанный на анализе ценностных и поведенческих установок.
Но ведь рано или поздно эти эксперименты скажутся на политической системе?
Посмотрите на Гонконг в составе Китайской Народной Республики. Он сохраняет свою идентичность, но разве можно сказать, что он принципиально влияет на облик ЦК Коммунистической партии Китая и всех сопутствующих институтов?
Нет, и более того, Гонконг, если в Китае ничего не изменится, будет поглощен. Финансовый центр, например, из Гонконга перемещается в Шанхай. Китайцы относятся к Гонконгу как к такому случайному наросту.
Нет, это не случайный нарост. Китай чрезвычайно активно использует Гонконг как портал в мир, потому что тамошние институты заточены под это гораздо лучше. Так что я не думаю, что властям Казахстана надо опасаться итогов этих экспериментов, потому что тут еще неизвестно, кто кого использует. Сейчас это, несомненно, клапан для Казахстана, который может оказаться для всех нас порталом общения с западным миром. Санкции в этом портале не действуют, это другая юрисдикция. При этом культурная дистанция между нами и Казахстаном довольно мала.

Я недавно прочел в интервью Сергея Караганова, что Россия и Китай произошли от Чингисхана, и поэтому нам органически присуща авторитарная власть. А после этого встречался с послом Монголии в России, рассказал ей об этом, а она засмеялась и показала на портрет Чингисхана у себя в кабинете. Вот, говорит, основатель нашей державы, а при чем тут Россия?
Какие-то элементы ордынского влияния в нашей структуре все же есть. Владимир Александрович Мау, например, говорит, что налоги у нас по природе ордынские: ты платишь не чтобы тебе что-нибудь сделали, а чтобы ушли и больше не приходили. Правда, заметим, что полюдье и до прихода татар было таким: насколько я помню, половцы князя Игоря пожгли ровно за повторное полюдье.
А из чего выросла знаменитая английская демократия и гражданское общество, вам напомнить? Сумасшедший король Джон Безземельный захватывал имущество и вешал баронов, издевался над их семьями. И бароны — чрезвычайно неприятные существа, неграмотные, жадные, среди которых единственный грамотный был архиепископ Кентерберийский, — решили, что надо как-то с этим разобраться.
Демократия часто появляется из удивительный гадости. Посчитайте количество людей, к которым изначально относился Билль о правах и американская конституция! Все не белое население вычеркиваем, женщин вычеркиваем, применяем имущественный ценз, и таким образом остается несколько процентов населения. Вот источник американской демократии. И более того, эти замечательные люди, герои войны за независимость, захватили чужую собственность, по закону принадлежащую английским лордам, и 30 лет законодательное собрание штатов не могло разобраться, что делать.
Таким образом, я думаю, что легендаризация истории процветающих демократий сыграла очень дурную роль. Добро делали из зла, потому что больше его было не из чего делать. Апелляция к Чингисхану — это не аргумент. Но если вы намерены жить в неком историческом периоде, считая его не периодом, а циклом, — извольте, крутитесь по кругу.

На днях вышел доклад Валдайского клуба, и он довольно сдержанный и сбалансированный. Авторы доклада утверждают, что нынешняя миросистема осыпается, хотя стены еще стоят. Они пишут, что не надо все сносить — потому что у нас нет ответа на вопрос, что мы вместо этого построим. Для меня эта констатация была в целом довольно приятной. Ведь многие сейчас говорят — как Шпенглер сто лет назад, — что Европа идет к закату. Но есть ли какая-то альтернатива Европе с точки зрения базовых ценностей?
Есть сценарий, при котором все смотрят на Китай, — но Китай, во-первых, сейчас вошел в фазу, когда он не может пользоваться чужим опытом. Он до этого замечательно осваивал технологический опыт западных стран, социально-политический опыт СССР и на наших ошибках выстраивал гораздо более правильную траекторию. Но этот опыт исчерпался. А во-вторых, чего хочет Китай? Представление, что он хочет быть одним из мировых центров, требует доказательства. Взгляните на Японию, у которой раньше была такая цель: она достигла комфортного состояния и окуклилась.
Возможность кризиса доллара означает, что не исключен сдвиг к другой мировой валюте. Кроме евро, больше никому с этим не справиться
Недавно был так называемый вечер прогнозов: компания «Велес Капитал» собрала экономистов, финансистов и инвесторов, чтобы понять, что происходит. Там обсуждалось, что будет с валютами, — потому что возможность кризиса доллара означает, что не исключен сдвиг к другой мировой валюте. И присутствующие, прикинув варианты, сказали, что, кроме евро, больше никому с этим не справиться. Так что с экономической точки зрения перспективы Европы выглядят совсем неплохо.
А теперь, возвращаясь к осыпанию миропорядка. Нам в вузах говорили, что глобализация — это линейный процесс. Но это волнообразный процесс. Если мы посмотрим показатели глобализации за 120 лет, мы увидим, что ее пик был достигнут не в конце XX — начале XXI века, а в 1913 году, а до этого — в 1890-м. После шли спады, два из которых были связаны с мировыми войнами.
Сейчас мы живем в период отлива очередной волны глобализации, ее негативного тренда. Так сказать, «winter is coming». С моей точки зрения, такие колебания вызваны тем, что возрастающая связность хозяйственной жизни заставляет координироваться, а в процессе страны натыкаются на культурное разнообразие. Если уж Евросоюз с трудом переваривает различия внутри Европы, то никакое мировое правительство не могло бы объединить Африку, Латинскую Америку и Океанию. Процесс идет, потом он наталкивается на преграду и откатывается, но затем региональные блоки снова начинают сближаться. Миропорядок сейчас будет сыпаться и сыпаться, потому что, например, из-за санкций все забыли о существовании Всемирной торговой организации. Но через пять-семь лет вспомнят, пойдет прилив, и либо сделают новую, либо отчистят эту и снова подпишут что-то вроде Парижской хартии.
Я считаю, что в условиях отлива глобализации осыпание миропорядка или, например, торговые войны и протекционизм — это не самое страшное. Главное — не доиграться до реальной мировой войны. Я полагаю, что мы ходим довольно близко, поэтому, отвечая на вывод валдайского доклада, я бы сказал, что главная задача в условиях осыпания миропорядка — создание системы минимальной взаимной безопасности, которая не позволила бы случайно начаться войне. Во Второй мировой войне агрессор был очевидный, а в Первой мировой войне такого не было, она возникла по стечению обстоятельств. И сейчас ситуация похожа на ситуацию 1914 года.
То есть альтернативы нет: нам надо охранять то, что имеем, чтобы оно не обрушилось нам на голову.
Видео:Александр Верещагин - Судебное нормотворчество, свобода и справедливостьСкачать

Профессор Аузан: «Нынешние поколения такого глубокого цивилизационного кризиса не видели»
Нынешний кризис вообще не экономический, констатирует декан экономического факультета МГУ, профессор Александр Аузан, это сочетание внешнего (пандемия) и внутреннего (локдауны) шоков. Как и всегда в критические периоды человеческой истории, есть несколько вариантов выхода, по каждому из которых какая-то страна пойдет. На этот раз это цифровой тоталитаризм (Китай), социал-демократия (Швеция) и цифровая экосистема, где тебя всем обеспечат, но влиять на систему будет почти невозможно (США).

«ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ СЕРЬЕЗНЫМИ»
— Вы говорили, что нынешний кризис — не просто экономический, а цивилизационный. И ваши слова, в частности: «все то, во что мы верили, поставлено под вопрос». Что вы имели в виду?
— Давайте вернемся в 2019 год и вспомним, каковы были наши представления о мире. Мы живем в глобализированном мире. Мы верим в то, что здравоохранение победило, люди стали жить на треть дольше. Мы знаем, что у нас есть мощная наука и замечательное образование. Мы верим, что демократии умеют решать задачи лучше авторитарных режимов, и полагаем, что медиа — великое достижение человечества.
Потом проходит несколько месяцев, и все это оказывается под вопросом. Я думаю, что так довольно часто выглядят крутые повороты в истории. Мы вошли в точку бифуркации, вступаем в другой исторический период.
Нынешние поколения еще не видели такого. Последний поворот такого масштаба и типа — с шоковым ударом кризиса — был сто лет назад. И дело не в «испанке», она была скорее гарниром к тому ужасному, что происходило: была Первая мировая война и величайшая революция в России, которая сотрясла мир и очень сильно его поменяла.
— Развитие объяснить довольно трудно, легко объяснить отсталость.
— Развитие происходит по двум причинам. Любая система стремится к равновесию. Из равновесия ее может вывести либо удар снаружи, либо какое-то изменение внутри. Мы находимся в уникальной ситуации, когда произошло и то и другое. Удар снаружи — эпидемия. А внутренние изменения — три миллиарда человек просидели примерно полтора месяца под домашним арестом. Невиданный исторический эксперимент.
И это иногда приводит к очень серьезным последствиям. Бывают резкие перевороты вкусов и предпочтений. То, что раньше воспринималось нормально, теперь кажется плохим. Роберт Фогель, историк, лауреат Нобелевской премии, доказал, что рабство в США погибло не по экономическим причинам. А потому что люди на Севере Америки долгое время считали, что рабство — вещь хотя и неприятная, но неизбежная. А потом произошел переворот вкусов и предпочтений, после книжки Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», люди сказали: «Боже, какая гадость — это рабство!» В России тоже сто лет спорили, отменять ли крепостничество, потом прочли «Муму» Тургенева и сказали: «Боже, как собачку жалко, и Герасима! И что мы это все терпим?» И рухнуло крепостничество.
Мы вошли сейчас в точку, где произошли одновременно внешний удар и внутренние изменения. Поэтому изменения будут серьезными. Мне кажется, что можно провести аналогию скорее с тем, что произошло в XIV веке. Тогда в Европе бушевала чума, «черная смерть» убила треть населения, в основном в городах, там, где большая скученность людей. По России чума тоже ударила, в Москву она пришла в 1353 году.
Две части Европы по-разному решали эту катастрофическую проблему. Людей осталось мало, люди стали редким ресурсом, и их надо было как-то заставить работать. В Западной Европе пошли экономическим путем. Стали стимулировать человека — вот тебе поле, вот тебе часть урожая. В конце концов по экономической схеме пришли к промышленной революции и к современному капитализму.
В Восточной Европе — не только у нас, но и в восточных землях Германии, в Румынии — сделали по-иному. Силой государства прикрепили редкого человека к нередкой земле. Крепостничество. Это совершенно другая дорожка, которая иногда вела к могуществу, но никогда к серьезному экономическому успеху. То есть именно тогда, в XIV веке, появились дорожки, по которым мы пришли к картине нынешнего мира. А сейчас карты снова перемешаны.
— Сейчас изменения затронули все сферы: путешествия, образование, медицину, коммуникации, транспорт, экономические взаимоотношения, отношения работника и работодателя и так далее. Какая из них, на ваш взгляд, станет точкой разлома, точкой бифуркации?
— Мне кажется, что персональные данные. За неполный год эпидемии мы пережили примерно десять лет, которые пришлось бы потратить на развитие цифровой эволюции. Произошла форсированная цифровизация.
Самое трудное в технологическом развитии — это смена навыков населения, инновации же никто не любит. Поэтому инновации всегда происходят принудительно — либо конкуренция заставляет фирмы, либо оппозиция или угроза столкновения и конкуренции с другими государствами заставляет власть.
Оказалось, что главный элемент, из чего складывается цифровизация, — это наши с вами персональные данные. Это примерно такого же значения вещь, как земельный ресурс в XIV веке. Как из земли все может вырасти, так и из персональных данных. Из них складываются большие данные и ваш личный профиль, который позволяет производить невиданный маркетинг и предлагать вам то, что вы еще не заказывали, но, оказывается, уже хотели. Из этого можно складывать политическую манипуляцию, доказательную медицину, доказательную экономическую политику. Все из персональных данных.
Как эти персональные данные должны быть устроены экономически — это и есть главная развилка. Китай, который блистательно, по крайней мере по своим доступным данным, проходит пандемию, он просто не признает данные персональные. Там все они — собственность государства. Америка относится к персональным данным как к коммерческому материалу. Недовольны, как их использует компания, — подавайте в суд. Европа считает, что персональные данные должно защищать государство.
Есть еще один вариант — как в Telegram у Павла Дурова. Он говорит, что архитектура системы защищает ваши персональные данные. Это намного экономичнее, чем-то, что человек мог бы сделать сам. Но я считаю, что вопрос о собственности на персональные данные — ключевой для картины будущего.
— То есть сейчас краеугольный камень — данные, они создают похожую развилку в XXI веке, как та, что была в XIV веке: человек свободен и его надо мотивировать самостоятельно принимать решения или не свободен и связан с государством, которое его привязывает.
— Ситуация похожа, но не уверен, что мы можем предсказать экономический результат. На данный момент КНР — цифровое тоталитарное государство, единственная большая страна, которая выходит с положительным ростом по итогам 2020 года. Моделей больше, чем две. Я уже назвал пять вариантов, как, например, поступать с персональными данными. От варианта ноль, когда персональные данные не ваши, а государственные, до варианта, когда вас защищает то ли государство, то ли цифровая платформа, то ли коммерческий договор. Все эти системы будут иметь свои плюсы и минусы. Если вашими данными пользоваться легче и не надо долго спрашивать вашего разрешения, то есть хорошие, дешевые, важные ресурсы для инновационного развития.
Для меня очень показательным примером стал геном. Первая расшифровка генома стоила примерно миллиард долларов США, это были государственные деньги. Потом расшифровка дошла до $10 тысяч. Но десять тысяч долларов — это слишком много для мирового рынка. Сейчас вы найдете предложения ниже $1 тысячи. Знаете, кто [платит] эту разницу в $9 тысяч? Фармкомпании в обмен на ваши персональные данные. Поэтому персональные данные, обменянные и раскрытые для бизнеса, могут давать дополнительные эффекты.
«ВАЖНО, ЧТОБЫ НЕ ДОХОДИЛО ДО ГОРЯЧИХ ВОЙН, НО ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ СЕЙЧАС НЕИЗБЕЖНЫ»
— Антиглобализация и разрушение связей между странами, которые стали отчасти результатом пандемии, — это тренд или все вернется на круги своя?
— Тут у меня утешительные новости. Все вернется и довольно быстро. Честно сказать, преподавая глобализацию в вузах, мы вводили вас в заблуждение, когда говорили, что это линейный поступательный процесс.
Когда возник более или менее единый мир? Когда он весь в один год заболел циклическим кризисом — в 1857 году. Я бы сказал, что это год рождения глобального мира. Если посмотреть на то, что происходило с передвижением финансов, людей, товаров и услуг в течение последующих 170 лет, можно увидеть, что глобализация не была линейным процессом, а развивалась почти по синусоиде. Причем отлив глобализации начался не в 2020 году, первые признаки проявились после кризиса 2008–2009 годов.
Почему так происходит? Мы твердо знаем, какая сила стягивает страны вместе — экономика, разделение труда, которое удешевляет товары, позволяет потребителю покупать иностранный товар дешевле, чем отечественный.
Но есть и вторая сила, которая действует центробежно, а не центростремительно. Тут есть разные мнения. Кто-то ссылается на большие циклы Кондратьева. Мне кажется, что здесь скорее работает фактор культурных дистанций. Чтобы жить вместе при высоких уровнях глобализации, надо как-то координироваться.
Глобализация начинает всех стягивать вместе, а культурные дистанции — расталкивать страны.
Страны расходятся на региональные блоки, когда они не в состоянии решить какие-то вопросы, как Англия, Франция и Германия не решили вопрос финансового регулирования.
Но потом опять начинает работать экономика. Я предполагаю, что мы уже имеем первые признаки сближения: Китай настоял на подписании соглашения о самой большой в мире зоне свободной торговли. Это такой китайский план восстановления глобализации. Думаю, что будет и западный ответ. Пройдет три, максимум четыре года, и нынешняя разделенная, немного средневековая жизнь сменится опять соглашениями о торговле, международными организациями… Глобализация вернется.
Сейчас протекционизм абсолютно закономерен, и все будут друг друга бить таможенными барьерами. Важно, чтобы не доходило до горячих войн, но торговые войны сейчас неизбежны.
— По мнению нашего предыдущего гостя, архитектора Инди Джохара, пандемия и кризис показали не полную состоятельность существующих систем планирования перед лицом единой угрозы, перед шоковыми ситуациями. Вы согласны, что они не очень справились, или они на самом деле нормально справились в рамках того вызова, который был? Как вообще следует работать?
— Лиза, вы имеете в виду национальные государства или мировую систему? Потому что мировая система просто даже никак не отреагировала на это.
— Правительства действовали очень похоже, и складывалось впечатление, будто они не знают, что делать. То есть они не были готовы к этим шокам, хотя экономисты предсказывали возможность эпидемии, и нельзя сказать, что эта вероятность полностью исключалась.
— Ну, видите ли, кто-то предсказывает и столкновение астероида с Землей, и пришествия инопланетян — этого ничего нельзя исключать. Простите, в данном случае, боюсь, что я не согласен с замечательным архитектором. Стремление переложить с себя на кого-нибудь ответственность за то, что может произойти, — совершенно естественно. Это понятный психологический ход.
Я всегда готов покритиковать правительство и государство. Но давайте представим себе государство, которое готовится одновременно к многочисленным шокам — войнам, стихийным бедствиям, эпидемиям, пришествию инопланетян, попаданию астероида.
Отчасти мы такое уже видели — Советский Союз. Он непрерывно готовился к одной мировой и трем локальным войнам, в результате чего страна покрылась цементными заводами, макаронными фабриками калибра 62 и тому подобным. Поэтому нельзя быть одновременно готовыми ко всем вероятным и маловероятным вызовам.
— А что нужно-то? Эволюционная эффективность, конечно, должна быть.
— Надо, во-первых, не бояться новых ситуаций, а видеть в них возможности, а во-вторых, не бояться неудач. Это все измеримо, кстати.
Первая характеристика называется «уровень избегания неопределенности». Насколько мы боимся: «не открывайте эту дверь, там страшно», «этого человека не меняйте, следующий будет хуже», «систему не трогайте — посыпится все». При такой позиции не бывает венчурного рынка, инновационного развития — надо к любым неожиданным ситуациям относиться как к ситуациям, которые могут приносить и хорошее.
По российским данным, кстати, 49% наших сограждан считает, что новые ситуации могут в себе нести хорошее. Раньше таких было 75%. Это данные полевых исследований, которые в июле–августе 2020 года провели Российская венчурная компания (РВК) и мои коллеги из Института национальных проектов МГУ.
А что значит не бояться неудач? Есть такое очень важное понятие — культура неудач.
Средний возраст успешного стартапера в Силиконовой долине — 40–42. У него 10–12–15–17 неудач до того, как он пришел, наконец, к своему золотому решению. У нас и в очень многих странах человека могут прервать после первой или второй неудачи. «Ну лузер же, дела с ним невозможно иметь. У него же провал за спиной». Провал — чрезвычайно важная школа, кто не закончил 7–8 классов этой школы, тот и есть лузер. Я бы сказал, что правительство должно способствовать тому, чтобы в культуре населения формировались вот эти две установки.
«У ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЯВИЛСЯ ОПАСНЫЙ КОНКУРЕНТ»
— Как вы думаете, для России этот кризис открыл новые возможности для выхода из колеи (path dependence problem), в которой наша страна находится даже не десятки, а сотни лет?
— Конечно, да. Та история, которую я рассказывал про возникновение двух траекторий, — это история про нас. Ведь ровно тогда в России возникла горькая парочка «самодержавие и крепостничество», опираясь на которые мы пытались выйти к новым светлым далям. Что такое петровские реформы? Все вроде как во Франции и Англии, только вместо наемного труда приписывают крепостных к уральским заводам. И это продолжается до очень недавних времен, потому что колхозная система, которая возникла через несколько десятилетий после отмены крепостного права, — снова прекращает мобильность. А что такое призывная армия 90-х годов? А что такое гастарбайтеры без паспортов? Крепостничество живет. Можно, я про самодержавие даже говорить не буду?
Мы все время пытаемся рвануть вперед, опираясь на эти два института родом из XIV века. Иногда, между прочим, достигаем результата, только потом опять сползаем.
Мы каждый раз теряли население. При Петре I, при сталинской мобилизационной модернизации, мы все время приходим к подрыву самого главного — человеческого потенциала.
У России теперь есть некоторые соображения, как преодолевается такой эффект. Мы знаем несколько стран, которые за XX век перешли из одной категории в другую, например, Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур. Но проблема в том, что формула, по которой это делается, в чем-то общая, а в чем-то — для каждой страны своя. Нужно опираться на свои культурные особенности, делая институты, которые выводят на новую траекторию: вроде системы пожизненного найма в Японии, чеболей в Южной Корее, поселковых предприятий в КНР и так далее.
Я сейчас странную вещь скажу. Колесо Сансары повернулось. Сейчас открылось окно возможностей. Сейчас можно не идти длинным путем, чтобы выйти из колеи, а заново построить свою траекторию, если мы вовремя отреагируем на новую повестку про персональные данные, про цифровые экосистемы, про новые типы институтов. Уж используем мы этот шанс или нет — я не знаю. Но мне кажется, что это необычный шанс, который история предоставляет не каждый век.
— Мне кажется, что это уже происходит. Там, где государство работает в формате B2 °C по отношению к гражданам, цифровые институты внезапно делают это государство гораздо более гибким.
— Абсолютно с вами согласен. Всегда за каждым делом стоят конкретные люди, способные осуществить этот переворот. Но поворот придется делать. Что мы обнаружили в карантинные месяцы? Мои молодые коллеги на экономическом факультете на данных европейской статистики выяснили, что обычные институты, которые сопровождают бизнес-процесс, начинают оттесняться новыми цифровыми частными сервисами. Это и есть точка бифуркации.
Исследования по России подтвердили эту тенденцию. По данным исследования, которое мы провели в июле–августе, выяснилось, что у правительства появился опасный конкурент. Уровень доверия к правительству у россиян 49% — выше, чем к губернаторам, муниципалитету и суду. А вот частным цифровым сервисам — 59%.
В итоге либо экономика и жизнь постепенно уйдут от правительства, в конце концов, и деньги в этом случае будут криптовалютой, что бы там ни думал ЦБ Российской Федерации и Федеральная резервная система США. Либо самим [государственным институтам] нужно двигаться в этом направлении. Действительно, такое движение уже началось: Федеральная налоговая служба России, которая была всевластным контрольным органом, стала сервисной компанией и совершила невозможное — создала, по оценке Financial Times, лучшую систему налогового цифрового администрирования в мире.
Я думаю, лучшее, что может сделать сейчас премьер-министр, который стал премьером именно благодаря тому, что сделал из ФНС сервисную компанию, — попытаться создать сервисное государство. Цифровое сервисное государство, государство как платформу. Но тогда придется поменять не только программное обеспечение. Например, нужно будет поменять характер налога. Налог в России всегда со времен Золотой орды платили, чтобы государство больше не приходило. А вообще-то налог — это плата за общественные услуги, за благо, которое государство создает. Поэтому я и настаиваю на том, что нужно делать инициативное партисипаторное бюджетирование, нужны селективные налоги, чтобы человек хотя бы повышенным налогом, вот этими 15%, мог голосовать за то, куда его направлять, на какие цели. Если дополнить эту систему переменой в сторону налоговой демократии, не побоюсь этого словосочетания, то тогда да, возможно формирование нового институционального ряда.
«УНИВЕРСИТЕТЫ ПРОИЗВОДЯТ, КРОМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ, ЕЩЕ ОДИН УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ — КАРТИНУ МИРА»
— Образование — одна из сфер, на которую пандемия оказала колоссальное воздействие. Можно сказать, что это был удар, но можно сказать, что это было внешнее воздействие, которое ведет к внутренним изменениям. Вот как вы смотрите на эту ситуацию?
— Мне нравится фраза Уоррена Баффета, который сказал, что кризис — как отлив, сразу видно, кто купался голым. Ведь с образованием как? Мы говорим: «Ооо, у нас в системе образования стремительно развиваются новые технологии». На самом деле во всем мире онлайновые технологии имели маргинальное значение. Можно сколько угодно говорить, что вот были созданы базы лучших лекций, например, Coursera. Но вы мне покажите людей, которые получили дипломы и сделали карьеры, слушая только лекции Coursera. Такого не было! Это был скорее факультатив, клуб по интересам.
И тут — ба-бах! — выясняется, что нету никакой мощной инфраструктуры и методик, которые могут обеспечить [дистанционное образование]. Я уж не буду говорить, какое количество школ и университетов не смогли выйти за пределы электронной почты, и не только в нашей стране.
Поэтому есть, конечно, шок. Интересно понять, что будет дальше. Можно ли из этого удара сделать что-то такое, что повернуло бы развитие. Очень хочется, чтобы на нас [университеты] возник серьезный спрос.
Дело не только в том, что мир переменился. Вообще-то университеты производят, кроме исследований и образования, еще один удивительный продукт. Замечательный испанский философ [Хосе] Ортега-и-Гассет в своей мадридской лекции «Миссия университета» 90 лет тому назад сказал: «Образование существует для того, чтобы поднять человека до уровня его времени. Для того, чтобы у него возникла картина мира». Картина мира, которая сначала строилась из античной мифологии, потом из католицизма, теперь из науки. Университеты должны производить эту картину. Если поменялся мир, то люди нуждаются в том, чтобы им рассказали, как он теперь устроен.
Но есть и гораздо более серьезное основание предъявлять спрос на высшее образование. Цифровая революция — четвертая промышленная революция, как все промышленные революции, имеет очень тяжелые социальные последствия. Все промышленные революции уничтожают середину. Они оставляют низкоквалифицированных и высококвалифицированных.
У человека в такой ситуации возникает два вопроса. Первый к своему правительству: «Как вы это допускаете и как мне жить?» Второй к университетам: «Как бы мне попасть к высококвалифицированным?»
Но это мы с вами говорим про спрос, про то, что хотят получить люди: картину нового мира и новые навыки…
— А весь вопрос в предложении…
— Именно. В чем проблема предложения? Дело в том, что цифровая революция меняет не только форматы — офлайн, онлайн, комбинированные и прочее. Мы начинаем готовить людей, которые будут работать рядом с искусственным интеллектом.
Цифровая революция — это доминирование технологий, основных на искусственном интеллекте. Искусственный интеллект пожирает профессии, основанные на алгоритмах. Он сам не алгоритмическое явление, но питается он ровно этими профессиями. Юристы-аналитики, финансовые аналитики, психоаналитики — все это пожирается искусственным интеллектом. Всюду, где есть методика, справится чище и быстрее.
А нам что остается делать с естественным интеллектом? Он же должен быть конкурентоспособным. Считать искусственный интеллект будет все равно в миллионы раз быстрее и лучше, объединяя базы из разных областей науки.
Для естественного интеллекта остается точка конкурентоспособности, связанная с эмоциональным интеллектом. Чем МГУ прекрасен? Тем, что рядом всегда находятся видные представители других наук. Один из них — Вячеслав Дубынин, эволюционный биолог — присутствовал при нашем споре про искусственный и естественный интеллект. И он сказал гениальную вещь: «Вы знаете, лисы намного умнее зайцев, но за миллионы лет лисы не смогли съесть всех зайцев. Знаете почему? Лиса не может рассчитать траекторию, по которой побежит заяц, потому что заяц сам не знает, по какой траектории он побежит». У нас с вами на самом деле есть скрытые способности, интуитивные, которые не связаны с расчетом.
Я думаю, чтобы мы [университеты] обеспечили предложение, мы должны решить несколько проблем. Во-первых, проблему конкурентоспособного естественного интеллекта. Это означает, что учить надо в спектре от математики, потому что она производит алгоритмы, до искусств. Причем не того человека, который будет заниматься искусством, а того человека, который будет в этом мире жить и намерен активно действовать. Очень широкая цепочка. Liberal Arts становится не маргинальным направлением, а центральным.
Вторая проблема — поколение Z. А я вам скажу, что мы еще увидим поколение «К» или «С», то, которое сформировалось в условиях COVID-19. Так вот, поколение Z — они другие. Они, например, параллельно мыслят. Вот я говорю студентам: «Юлия Цезаря считали великим человеком не потому, что он великий полководец, а потому что он умел три дела делать одновременно. У вас каждый второй делает несколько дел одновременно, вы якобы слушаете мою лекцию, общаетесь в сетях и что-то такое гуглите». На что один из студентов мне прекрасно ответил: «Да, мы все это делаем, но мы как утка. Утка ходит, летает и плавает, но все три дела делает плохо». Вот в чем проблема поколения Z. Это поколение, рожденное цифровой революцией: у них почти не работает память, потому что память находится в дополнительных устройствах; они не могут оперировать большими системами и т. д. Но они могут работать параллельно.
Мы должны одновременно придумать, как поднять то, что упало у них из-за удара цифровизации. Что было при первой промышленной революции в Англии? Люди хиреть начали, потому что машины за них работают. Что придумала Англия? Две вещи: бокс и футбол. Для того, чтобы человек поднялся. Вот нам нужен наш такой интеллектуальный бокс и футбол для того, чтобы у человека память развивалась. А с другой стороны, надо придумать, где их умение работать в параллельных режимах сработает наилучшим образом и даст какие-то хорошие результаты для внешнего мира. Поэтому я бы сказал, что будет несомненный рост спроса на высшее образование, но нам нужно решить очень небанальные проблемы для того, чтобы перестроить предложение.
— Вопрос от зрителей. Вписывается ли нынешний кризис в теорию циклов в экономике?
— Нет, не вписывается. Нынешний кризис вообще не экономический. У него есть экономическая составляющая, но он другой. Что такое кризис от внешнего шока? Чем он отличается в экономическом смысле? Это изменение относительных цен активов. В обычном экономическом кризисе у вас все идет вниз, кроме ставки овернайт, то есть кроме денег, которые вам нужны позарез и немедленно. А здесь не так. Здесь у вас что-то ушло в ноль. А что-то замечательно росло. Вся цифровая индустрия росла и продолжает расти бешеным темпом. Меняются относительные цены активов. А вот за изменением относительных цен активов, говоря экономическим языком, пойдет изменение в структуре прав собственности. А за этим — изменение относительной переговорной силы разных политических и экономических групп. И начнутся весьма серьезные изменения в разных странах и в разных разрезах.
«ДОВЕРИЕ — КОЛОССАЛЬНЫЙ РЕСУРС НАШЕГО РОСТА»
— Public trust. Как изменилось общественное доверие во время пандемии и чего ждать?
— Это ключевой вопрос, меня он тоже чрезвычайно волнует.
Швеция — лидер по уровню доверия. Имеется в виду обобщенное доверие, то есть доверие к большинству людей, [утвердительный] ответ на вопрос «Можно ли доверять большинству людей?». Два известных французских экономиста — Ян Алган и Пьер Каюк — посчитали, что если бы уровень доверия в разных странах был такой, как в Швеции, то валовый продукт на душу населения в Англии был бы больше на 7%, в Германии — на 9%, а в России — на 69%. Это колоссальный ресурс нашего роста.
В марте 2018 года Владимир Путин поставил задачу поднять до 2025 года в 1,5 раза ВВП на душу населения в России (в докризисном 2019 году мы были на неприличном 54-м месте в мире по этому показателю). На что макроэкономисты сказали — невозможно. Но если мы понимаем, что с доверием возможны изменения, то отчего же?
Теперь о том, что сделал кризис в России. По нашим свежим полевым исследованиям — ничего не сделал. Как были в России 25% тех, которые доверяют большинству людей (в Швеции — 64%), так и осталось. В основном это люди в мегаполисах.
Знаете, где произошли значительные изменения с доверием? Там, где власть по тем или иным причинам действительно ничего не делала по проблеме пандемии. Например, не признавала существование. Там возникли сетевые взаимодействия, люди помогали друг другу, потому что выживать как-то надо, помогать друг другу надо. Но возник другой эффект: они посмотрели на власть и сказали «знаешь что, уходи». В России картина очень разнообразная в зависимости от региона, но в среднем вот так.
— Вот интересный вопрос от зрителей: есть ли предел у цифровизации? И что будет после его достижения, если иметь в виду, что все развивается по спирали — поэтапный отказ социума или новый виток?
— Предел у цифровизации, конечно же, есть. Переживая четвертую промышленную революцию, не худо бы полистать книжки или погуглить, пояндексить, что там было с первыми тремя. Я поражаюсь иногда, насколько история повторяется. Прогноз насчет того, что человек будет вытеснен отовсюду и за него все будут делать автоматы, был сделан Чарльзом Бэббиджем в 20-е годы XIX века. Но потом оказалось, что это не так. Возникло то, что Карл Маркс назвал «экономические границы капиталистического применения машины».
Каждый раз, когда нам кажется, что технология беспредельна, это означает, что скоро она на что-то наткнется: может быть, на этические ограничения, может быть, на экономические, на социальные, на политические.
Возвращаясь к онлайн- и офлайн-образованию. Онлайн — прекрасное средство демократизации образования. Любой может послушать лекции профессора из Стэнфорда, Оксфорда или Сорбонны. Это здорово! Но офлайн несет другую силу. Это как театр, где есть энергетика, разговоры в коридоре… В Coursera вы этого не найдете. Убил ли кинематограф театр? Не убил, а превратил театр в высокоэлитное, довольно дорогостоящее развлечение. «Развлечение» звучит уничижительно, правильнее сказать «элитное очень важное занятие».
Это две руки: онлайн заведует демократизацией, а офлайн — углублением и комплексностью понимания. Они будут приходить в равновесие, конкурируя друг с другом, изменяя друг друга.
Мы сначала далеко зайдем в цифровизации, потом начнем возвращаться, понимая, что мы потеряли что-то очень важное. Оказывается, для того, чтобы хорошо воспринять лекцию, нужно встать, почистить зубы, одеться, прийти в некий социум, с кем-то поговорить, кому-то сказать: «Привет! Как у тебя дела?»
Я имел честь дружить с Людмилой Михайловной Алексеевой, она любила повторять: «Все рано или поздно устроится более или менее плохо». Вот я вас уверяю, что ровно так с цифровизацией произойдет.
«НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО МАКСИМИЗИРОВАТЬ СВОБОДУ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
— Один из зрителей спрашивает: «Для меня остается загадкой, как будут меняться отношения в социуме?» Очень глубокий вопрос. Семья, религия, капитал, государство и так далее…
— Нам сейчас предложены на мировой сцене три варианта. Они возникли сейчас, прямо у нас на глазах, в 2020 году. Чего хотят люди? Люди хотят все время разного. Если мы пытаемся понять, чего они хотят от государства, от кондиционального устройства, то, чтобы это понять, есть очень хороший инструмент. Мы его используем благодаря великому экономисту Кейнсу, который в 1930-е съездил в СССР и после написал статью о невозможной трилемме. Невозможно одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Три шарика не удержать в руке. И вся политическая борьба есть не что иное, как попытка взять три шарика в руку.
Мы через эту трилемму измерили: чего хотят люди России в 2017 году и в 2020 году. В 2017 году на первом месте стояла свобода и широта выбора, на втором месте была справедливость, на третьем — эффективность государства. А сейчас мир повернулся вокруг оси. Справедливость осталась на втором месте, но на первом месте — эффективность государства, а свобода ушла на третью позицию.
— Получается, мы действительно готовы пожертвовать свободой ради безопасности?
— Получается, да. Но до какого предела? Это очень тонкий вопрос. Мы ведь еще одно исследование провели, про персональные данные. И тут меня ответы необычайно порадовали: 54% наших сограждан не согласны отдавать какие-либо персональные данные государству без своего решения. 40% согласны, но только на две цели — на борьбу с криминалитетом или на борьбу с эпидемией. При этом только 6% считают, что данные, переданные государству, как-то защищены.
Из этого можно сделать вывод, что у нас нет спроса на тоталитарное государство близко даже. Да, люди согласны в определенных пределах и на определенных условиях в этом безумном историческом периоде жертвовать свободой ради безопасности.
Я возвращаюсь к трем предложениям, которые возникли на мировой арене. Первое предложение — это цифровой тоталитаризм, как в Китае. «Отдай мне все, и я тебе сделаю хорошо». Второе предложение — это Швеция, которая сказала: «Да не, надо себя уважать, надо уважать свободу и справедливость и понимать, что люди будут вести себя разумно». Есть еще американский вариант, где, на мой взгляд, рождается радикальная этика справедливости, которая сильно пахнет революцией.
Современный мир предлагает нам выбор между цифровым тоталитаризмом, социал-демократией и уходом в цифровую экосистему, где тебя всем обеспечат, все объяснят, предоставят все приложения, правда, не очень понятно, можешь ли ты повлиять на пользовательское соглашение, хотя бы так, как на Конституцию своей страны. Ни в одном из вариантов, на мой взгляд, не будет светлого рая.
«ПРОФЕССИЮ БУДУЩЕГО ЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ — ОНА ЕЩЕ НЕ ИМЕЕТ НАЗВАНИЯ»
— В чате у нас есть один забавный комментарий, давайте я его зачитаю и в развитие сформулирую вопрос про образование. «До предельной цифровизованности, извините, есть риск не дожить, получив онлайн-образованных хирургов, химиков, авиаинженеров и материаловедов. Офлайн надо учиться не чтобы зубы чистить перед лекцией, а чтобы руками понимать, где у человека печень и как ставить диагноз». Возвращаясь к теме образования, есть вопрос о выборе между hard skills и soft skills. Я в этом смысле человек консервативный и считаю, что soft skills можно надевать на крепко поставленные hard skills, которые позволяют человеку накачать мышцу мозга и решать сложные задачи.
— Можно я сначала отреагирую про печень, потому что печень — это очень важно. Я соглашаюсь с тем, что есть вещи, которые онлайн в принципе не может решить. Но есть такие штуки, которые позволяют работать в виртуальной реальности: цифровой двойник, моделирование. Просто у нас этих вещей нет или почти нет. Наш онлайн — как театр, снятый на устаревшую кинокамеру.
Теперь про hard и soft skills. Конечно, согласен с вашей позицией. Ректор МГУ об этом прямо говорит: мы должны научить людей этому, этому, этому, а остальное должно уже дополняться, добавляться и т. д.
Другое дело, что сейчас мы видим радикальный поворот, о котором я сегодня уже говорил. Soft skills — это облегченное обозначение той великой задачи, которая перед нами появилась. Человека, погруженного в математику и финансовый анализ, надо вытащить оттуда и сказать: «Пушкина читал? А модернистскую поэзию читал? А артхаусный фильм когда-нибудь видел?» И не потому, что мы хотим, чтобы в человеке было все прекрасно, а потому что только так он будет конкурентоспособен рядом с искусственным интеллектом. Если он будет конкурентоспособен, то будет партнерство. Если будет неконкурентоспособен — его съедят и превратят в овощ, который обслуживается технологиями искусственного интеллекта.
— В завершение есть пара легких, совершенно конкретных вопросов. Первый: на ваш взгляд, какие профессии останутся и будут востребованы после четвертой революции? Второй: какие меры позволяют восполнить нарастающий дефицит человеческих ресурсов в стране?
— Про первый вопрос. Профессию будущего легко определить. Это та профессия, которой уже учишься, но она еще не имеет названия. Ну, например, мы вместе с факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) открыли программу по анализу данных. Есть очень большой спрос. Скажите, а как ее выпускники будут называться? Бигдатисты? Аналитики-тире-там-данных? Мы сделали с психологическим факультетом программу по когнитивной экономике. С биологическим факультетом сделали курс про менеджмент биотехнологий. Все это не имеет названия сейчас.
Я бы сказал, что есть два критерия, чтобы определить перспективные профессии. Во-первых, то, что на стыках, не в прежних областях, не в привычной парадигме. А во-вторых, это то, что еще не получило названия, но чему уже учат.
Теперь второй вопрос про восполнение человеческого потенциала. Тут очень много аспектов. Имеется в виду падение народонаселения в России? Это проблема. Сейчас мы проходим очередную яму, связанную с «демографической елочкой» (так называют график распределения населения по полу и возрасту в России. — Прим. ред.). Сможем ли мы поднять рождаемость до такого уровня, чтобы решить все проблемы нашей самой большой в мире территории? Нет. Это решает не то, сколько нас будет — 146 млн человек или 161 млн. На мой взгляд, если мы хотим, чтобы эта страна по-прежнему была нашей, была успешной, то этот вопрос решается не количеством населения, а его качеством и способностью через разные технологические решения выходить на Крайний Север, делать необходимое с тайгой и тундрой, охранять бесконечные границы с не очень спокойными соседями и т. д.
«СПРОС НА ТАЛАНТЫ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ВНУТРИ СТРАНЫ, А ВОВНЕ»
— Мне кажется, в вопросе речь идет в основном о человеческом капитале и качестве этого капитала.
— Если говорить о качестве человеческого капитала, Россия по предкризисным данным была на 16-м месте в мире в рейтинге человеческого капитала. Это неплохая позиция. В 60-е годы XX века мы были на 1-м месте в мире, об этом мне сказал Стивен Дурлауф, один из лучших в мире специалистов по человеческому капиталу. Он сказал: «В 60-е годы вы стояли гораздо выше нас, а американцы-то вообще были лучшие в мире. Математика, физика, астрофизика, шахматы — очень важно». Но потом он добавил: «Только Кремниевую долину сделали не вы, а мы. Потому что наши умники хотели быть богатыми людьми, а ваши не хотели».
Вопрос о том, как качество человеческого капитала становится экономикой — очень сложный. Если говорить о нашем 16-м месте, то на самом деле это очень дифференцированный результат. У нас есть совсем плохая подготовка и есть абсолютно блистательная. Давайте я просто приведу факты. Например, по эконометрике, по финансовому анализу команды МГУ каждый год выходят в мировой финал или полуфинал. Сражаются с Чикаго, с Оксфордом и т. д.
В конкурсе квалификационных работ бакалавров и магистров New Economic Talent, который проводился в мае этого года, в первой десятке 3 места — наши. Рядом с Национальным Сингапурским университетом, с Сент-Эндрюсским университетом.
У нас есть чрезвычайно сильные мозги и таланты, но наша проблема в том, что, [поскольку мы имеем] экономику не XXI, а XX века, спрос на эти таланты существует не внутри страны, а вовне. Поэтому я все время говорю, что нельзя строить подготовку в расчете на нашего работодателя, он нас будет готовить к прошлому. Я задаю работодателю вопрос: «Скажите, а вы в глобальной конкуренции где участвуете? В какой позиции?» Он говорит: «А мы не участвуем». А я участвую. Мы во второй сотне мирового рейтинга. Но рядом с нами-то университет Индианы, Париж-Дофин, мы конкурентоспособны.
Поэтому я все время говорю — нам нужно перестроить всю модель. У нас есть несколько тысяч глобальных, конкурентоспособных компаний. Частных и государственных. У нас есть несколько десятков глобальных, конкурентоспособных университетов. У нас есть начальная школа, которая пока в первой пятерке мировых рейтингов. Вот если замкнуть этот треугольник и понимать, что мы работаем на результат мирового уровня, то мы можем. Мне кажется, можем.
С Александром Аузаном беседовала Елизавета Осетинская
«The Bell», 17.12.2020
YouTube канал «Русские норм!»
🎬 Видео
Кейнсианская экономикаСкачать
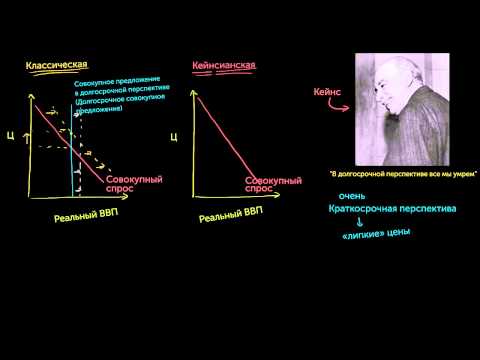
Социальная справедливость: идеал или реальность? / Симон Кордонский в Рубке ПостНаукиСкачать

Александр Аузан и Ефим Рачевский: «Претензии к школе 一 то же самое, что претензии к жизни»Скачать
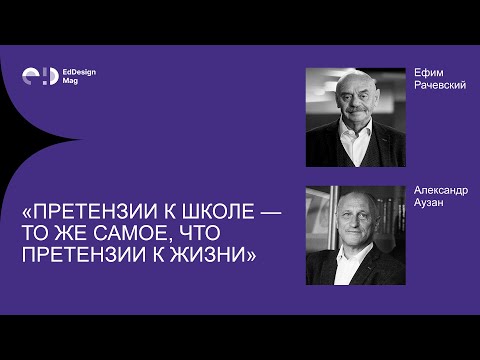
Ослепленная ненавистью | НОВЫЙ ФИЛЬМ ПРО ЛЮБОВЬ И ВРАНЬЕ | НОВОСТИ КИНО | МЕЛОДРАМА ОБ ОТНОШЕНИЯХСкачать

УДО ДЛЯ ПОЖИЗНЕННИКА РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАРДА ПЕТРОВА 2023 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ пожизненное лишение свободыСкачать

Свобода или любовь? | ФИЛЬМ О ЛЮБВИ 2023 | МЕЛОДРАМА С ЗАКРУЧЕННЫМ СЮЖЕТОМ | НАСТОЯЩИЙ ХИТСкачать

Почему Россия — биполярная страна | Лекция Александра Аузана из курса «Культурные коды экономики»Скачать

"СПРАВЕДЛИВОСТЬ vs ЭФФЕКТИВНОСТЬ в образовании"Скачать

Что такое свобода? Позитивная и негативная свободаСкачать

Александр Аузан в Совете Федерации Историческое выступлениеСкачать

Концерты Киркорова в России хотят запретить !Скачать

Где справедливость? Из курса «Антропология коммуналки»Скачать

🔥 Новое расследование Навального. Запрос на справедливость. Дело КашинаСкачать

Метафизика сознания. Личность и свобода воли. 13/14Скачать

Культурные коды экономики - лекция профессора, д.э.н. А.А. АузанаСкачать

Александр Ковалев – Дебаты Кейнс-Хайек I Конституция свободыСкачать

1.7 СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬСкачать

ДМИТРИЙ ТРАВИН. "КОНСТИТУЦИЯ СВОБОДЫ" ХАЙЕКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯСкачать

